#литературное
Explore tagged Tumblr posts
Text
Писательские будни
Я создала сообщество в вк. "Писательские Будни" - это не только мои истории, но и ваш уютный уголок где вы можете показать себя и получать много интересных знаний, общаться с людьми близкими по интересам, и в целом получать хорошее настроение. Это место где вы можете быть собой)
#сообщество#вк#группы#писательсво_вк#писательский блог#дневник писателя#писательство#минутка писанины#мысли вслух#психология#русский писатель#статьи#инстересные статьи#русский tumblr#русский тамблер#писательское сообщество#литературное сообщество
6 notes
·
View notes
Text
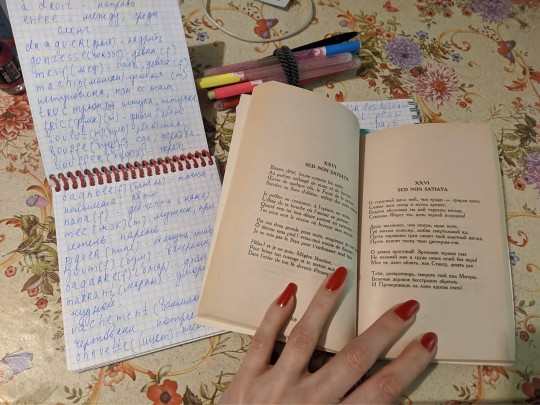
Не хватает только бутылки абсента.
Il ne manque plus qu'une bouteille d'absinthe.
#список слов из боевиков и поэзия есть)))#хобби#мэк - парень почти литературное они прям часто говорят
4 notes
·
View notes
Text
��азваны имена лучших литераторов страны: вручены премии «Поэт года» и «Писатель года»
В Центральном Доме литераторов состоялась торжественная церемония вручения национальных литературных премий «Поэт года» и «Писатель г��да», учрежденных Российским союзом писателей. Мероприятие, традиционно приуроченное к Всемирному дню поэзии, собрало ведущих литераторов, критиков, общественных деятелей и финалистов из разных регионов страны. Цель премии — поиск и поощрение новых ярких авторов,…
#культураобъединяет#светскаяжизнь#Алексей Варламов#Влад Маленко#Всемирный день поэзии#Инсайд Групп Продакшн#Культура#Литературная премия#Москва#Российский союз писателей#Светская жизнь#выдающиеся писатели России#дебют в поэзии#книги лауреатов#книжные премии России#конкурс в Центральном Доме литераторов#конкурс писателей#конкурс поэтов#культура и искусство России#культура москвы#культурные мероприятия#лауреаты конкурса писатель года#лауреаты конкурса поэт года#лауреаты литературных премий#литераторы СВО#литература XXI века#литературная премия для писателей#литературная премия для поэтов#литературная сцена Москвы#литературное вдохновение
0 notes
Text


Литературное воровство!
386 notes
·
View notes
Text
мое хобби:
заходить на заброшенные блоги тульповодов годов так 2013-2014 и читать посты начиная с самого раннего.
я так однажды нашла канал, автор которого писал туда на протяжении ≈ 15 лет
во-первых меня всегда поражало и будет поражать воображение тульповодов. я много раз натыкалась на посты, похожие на литературное произведение искусства, отрывок из какого-то фантастического бестселлера, а потом это оказывался рассказ человека о его походе в вондерденд, созданный им и тульпой. многие из этих блогов могли бы стать основой для книги с шикарно прописанны�� миром и персонажами.
во-вторых нередко люди пишут в своих блогах не только о своей тульпе, но и о себе, своей жизни и о том, как они пришли к столь необычному занятию. часто эти истории весьма трагичны, а учитывая литературные способности тех, за кем я следила, все эти события были описаны очень чувственно.
у всех свой специфический опыт, свои ошибки и способы их решения, свои уникально созданные методы форса. за этим ужасно интересно наблюдать, а за то время, пока ты читаешь об опыте человека, ты, так или иначе, сближаешься с ним.
вот только половина из тех каналов, посвященных тульповодству, за которыми я следила, превратились в щитпостерские, а все посты о тульпе были удалены
а вообще я совершенно случайно наткнулась на эту тему, начала изучать ее изначально просто из интереса, но осталась надолго. искала медь, нашла фиксацию на следующие четыре года
#дневник#личный блог#русский блог#русский тамблер#русский tumblr#мысли вслух#личный дневник#тульпа#тульповодство
28 notes
·
View notes
Text






мою первую любовь звали Ненависть, что презирала все таблетки от депрессии
у нее дома было книг просто завались, герой погиб - литературное месиво
17 notes
·
View notes
Text
Про писательство
На протяжении наверное лет 15-ти я не раз пытался что-то написать. Я имею в виду не компьютерную программу, а литературное произведение.

Но чаще всего у меня получались даже не короткие рассказы, а описания каких-то отдельных сцен и событий, без структуры, начала и конца. Как несколько секунд или минут видеозаписи, вырезанные из жизни разных людей, попавших в различные ситуации. Некоторые даже красивые и довольно детальные, на мой субъективный взгляд, но совершенно бесполезные сами по себе. Конечно все писалось «в стол» и почти никто никогда эти «зарисовки» кроме меня не видел. А те немногие, кто видели непременно говорили: «Хорошо, а что дальше?». Но ответа на этот вопрос у меня никогда не было. Что было дальше я просто не мог придумать. Но очень хотелось где-нибудь когда-нибудь это использовать.
Недавно у меня появилась в голове концепция, в рамках которой я могу написать что-то более менее связное и продолжительное. Вернее будет сказать не «могу» а «очень хочу попробовать».
Меня беспокоит тот факт, что в основе этой концепции нет ничегошеньки нового и очень похожие вещи уже существуют и не в одном экземпляре. Но она очень удобна с точки зрения того, о чем именно я хочу писать. Если я откажусь от этого удобства, то скорее всего брошу на пол пути. А, даже хрупкая возможность подарить жизнь моим нереализованным фантазиям хотя бы на бумаге, а не в жизни (я ещё не готов произносить громкое слово «книга») стоит того, чтобы попытаться.
Получится ли из этого что-то что можно будет опубликовать — без понятия. Но я завёл под это целый отдельный obsidian и пока энтузиазм не угас надо куда-то двигаться.
24 notes
·
View notes
Text
Как издать свою книгу
Ранее, в каком-то из предыдущих постов, я уже писал, каково быть писателем, стоит ли оно того, гребут ли писатели миллионы и т.д. и потому я это здесь обсуждать не буду.
Здесь я поделюсь информацией с теми, кто просто ХОЧЕТ или ХОТЕЛ БЫ написать свою книгу по разным причинам: сделать подарок близким, увековечить свое имя в истории, поделиться с миром своей фантазией и др.
То есть если цель: не стать успешным писателем, а просто - написать книгу.
Ну, для начала вы ее напишите. Ибо иметь книгу авторства самого себя хотели бы многие, а вот сесть и проделать работу от начала до конца способны лишь единицы, т.к. ОКАЗЫВАЕТСЯ, книгу нельзя написать за 5 минут, пока есть запал, ибо в противном случае, у вас на компьютере останется лишь вордовский "огарок" вашего запала - начатый, но не законченный документ.
Моей мамаше более 15-ти лет тому назад поставили на работе компьютер и ей надо было просто тренироваться печатать на клавиатуре. Так она написала свою первую книгу.
Но, допустим, вы все-таки написали литературное произведение. Книга становится книгой, когда она находит своего читателя. А для этого ее надо опубликовать, иначе вы, что называется, напишете в стол.
Платформ Самиздата сейчас хоть отбавляй. Это и Литнет, и проза.ру, и автор.тудей, где вы можете опубликовать свою писанину и ��то-то вас да прочитает. А может даже и комментарий оставит. Периодически ваше произведение будут перечитывать и так вы памятник себе воздвигнете нерукотворный.
Даже если у вас получится откровенная параша - публикуйте. Не стесняйтесь. Мои первые рассказы так и висят сырые на просторах интернетов, и я их все никак не отредактирую. Но все равно их читают. Главное, чтоб задумка интересная была.
Но, что если вы не хотите тормознуть на уровне самиздата, а опубликовать полноценное произведение с присвоением книге ISBN, чтоб быть таким же официальным писателем, как Пушкин.
Многие по ошибке сразу ищут цены на печать в типографиях: сколько обойдется тираж в 100 книг, плюс еще готовы забашлять редактору за вычитку, чтоб в итоге вгрохать бабок и сидеть ж#пой на своих книгах, т.к. ни одному книжному магазину они нафиг не нужны. В лучшем случае - раздарите их своим знакомым.
На самом деле на сегодняшний день существует ряд издательств, которые бесплатно присвоят вашей книге ISBN и распространят среди книжных магазинов, и даже, в случае успешной продажи, выплатят вам роялти - процент от продаж.
Этой весной я опубликовал свои книги в трех издательствах, находящихся в трех разных странах.
Если вы планируете написать книгу на русском, то рекомендую издательство Ridero. Вы создаете аккаунт, подписываете в электронном виде договор с издательством и загружаете свой файл с писаниной. Также на сайте издательства можно самому создавать макет книги, выбирать обложку (стандартную или свою), устанавливать размер роялти и в каких магазинах продавать вашу книгу: электронную и бумажную.
Еще для русскоязычных авторов существует издательство Lambert Academic Publishing", издающее и распространяющее книги в бумажном виде и выплачивая роялти 12%. Да, знаю, мало. Но повторюсь: это для тех, чья цель - написать книгу. Плюс, это издательство специализируется в основном на научной и учебной литературе.
Есть еще американское издательство Draft2Digital, которое публикует книги в т.ч. на русском языке, но в американских магазинах, потому, гарантии успеха соответствующие. Зато бесплатно + ISBN в подарок.
Потому, в целом, издать книгу сегодня намного доступнее, чем, скажем, еще 10 лет назад, когда это могли позволить себе только богатые. Главное, было бы желание и усердие.
#на вашей орбите#полезные советы#писатель#писательский блог#авторский блог#автор#русский автор#русский тамблер#русский пост#русский блог#русский писатель#укротамблер#український тамблер#український автор#український пост#український блог#книга#книги
10 notes
·
View notes
Text
Смотрю сейчас всякие видяшки про литературу, про школьное образование. Встал вопрос о том, почему дети считают книги и чтение, особенно по школьной программе, - скушным, неинтересным, и вообще - будто их заставляют это всё полюбить. И вот одна женщина недоумевает, мол, как так, ведь это по сути один из немногих уроков, где не только зубришь всякую фигню, но и развлекаешься.
Я вспоминаю своё детство. Меня тоже постоянно почти силой заставляли читать, а я всячески сопротивлялся. (Хотя сейчас собрал такую библиотеку, что ей уже мало места в одной комнате). И дело не в том, что я осознал, как это прекрасно. А в том, что я читаю другие книги. Школьная программа класса до восьмого-девятого (а именно в этих классах появляются первые толковые вещи) состоит из таких примитивно-морализаторских штук, что кажется, будто их специально писали для идиотов. Может быть раньше, когда книга была почти единственным простым источником сюжетов, они и канали. Когда дети с основными принципами рассказа знакомились именно на первых уроках литературы. Но сейчас, когда до школы дети не только смотрят мультики (раньше они тоже были, но в куда меньшем количестве и разнообразии), но и имеют доступ в интернет, - эти принципы понятны им и заранее. Я сужу по себе. Какой интерес мне читать о Петях, Васях, когда тот же самый сюжет, ту же самую структуру, идею, я уже двадцать раз впитал до, из других источников - никакой. Детская литература - примитивна по своей форме, она считает детей - за идиотов, которые не смогут оценить чего-то более сложного, чем прямолинейный рассказ про дворовых ребят.
Первой моей книгой, которую я дочитал до конца - был "Процесс" Кафки. Классе в шестом я учился. Я просто ахуел, что книги могут быть не просто банальным пересказом каких-то событий, но и красиво построенным текстом. И мне кажется, что в этом решение проблемы (хотя проблемы-то и нету на самом деле): надо больше обращать внимание не на мораль и взаимодействия персонажей, не переплетения сюжета - которые понятны ребёнку и так (потому что основных костяков сюжета и не много), - а на текст, на сами буковки и как они друг с другом сочетаются. На те самые амфибрахии и хореи, на математическую точность слов. Потому что именно в ней проявляется литературное разнообразие, и на самом деле - именно оно и создаёт в голове человека "смысл". Но для этого необходимо полностью перевернуть систему преподавания и корпус представленных для изучения произведений.
7 notes
·
View notes
Text
Чтение элитарно?
Часто я сталкиваюсь с высокомерным отношением к литературе, и, к сожалению, такие взгляды чаще всего высказывают именно люди, которые любят читать. Однако следует помнить, что не всегда стоит придавать значение громким мнениям – кричат обычно те, кто несет в себе недостаток понимания. Даже в самых исключительных кругах не обходится без присутствия таких людей. Литература настолько разнообраз��а, что способна быть доступной разным слоям общества и возрастным группам. Некоторые произведения могут пользоваться популярностью, но нести клеймо "низкопробности", как бульварные романы или литературное "порно". Но, ведь, не нечитающие люди порицают потребление низкопробной литературы, точнее, они, возможно и порицают, но как же они пришли к таким выводам не читая ? Литературные "пробы" остаются именно на совести читающих, и те, кто не согласен с простой поэтикой и восхваляет высокопарность Пришвина - вешают клеймо неугодности на простые по их мнению произведения.
Почему-то многие считают вхождение в мир литературы непосильной задачей, а разделение на культурную элиту и остальных поощряет отказ от чтения в попытке сохранить свою "принадлежность" к определенному классу. При входе в тренажёрный зал никто не стремится мгновенно поднять больше сотни, за исключением редких случаев, которые либо заканчиваются травмами, либо являются результатом "эффекта выжившего". То же самое можно сказать и о литературе: начинать можно с чего угодно, даже с состава освежителя воздуха. Постепенно переходишь от фирм и вкусов гелей для душа к инструкции по стиральной машине, и вот уже ты держишь в руках книгу.
Наш мозг стремится к разнообразию и быстро утомляется от однообразного контента, музыки и пищи. Почему же кто-то считает, что это не работает со чтением книг?
Если ты в данный момент читаешь эти слова или сталкиваешься с критикой в адрес своих литературных вкусов от друзей, значит, ты уже читатель.
Продолжай двигаться вперед, и у тебя все получится.

12 notes
·
View notes
Text
У меня впервые в жизни порвались джинсы.
Села в раздевалке после тренировки жопы шнурок завязать, и они сделали "хррррррррррррр".
Так и живём, то рецензии на книги пишем, то про дырку на жопе
А вообще можно меня поздравить, 3 курс пошел, сегодня начало нового семестра.
Столько интересных новых предметов (стилистика и литературное редактирование, организация работы редакции, история русской журналистики, история зарубежной журналистики, профессиональная этика журналистики, иностранный язык в сфере журналистики), и любимые старые (история зарубежной литературы, история русской литературы, основы журналистской деятельности).
А ещё ПРАКТИКА по журналистике (хочу попасть в хорошее издательство 💌) и курсач по основам журналистской деятельности.
Этот семестр будет насыщенным!
Продолжаю заказывать всякую фигню перед Египтом (купальник, коралки, маски для снорклинга, очередные солнцезащитные очки в коллекцию, повербанк решила заменить и т.п - приятные мелочи).
Одну книгу про Египет читаю (Айзек Азимов), другую - слушаю.
Параллельно себя другими книгами не нагружаю из-за обилия дат, имён и событий в этих двух+параллельно пишу работу по социальной журналистике на 20 страниц, там тоже прилично читать приходится.

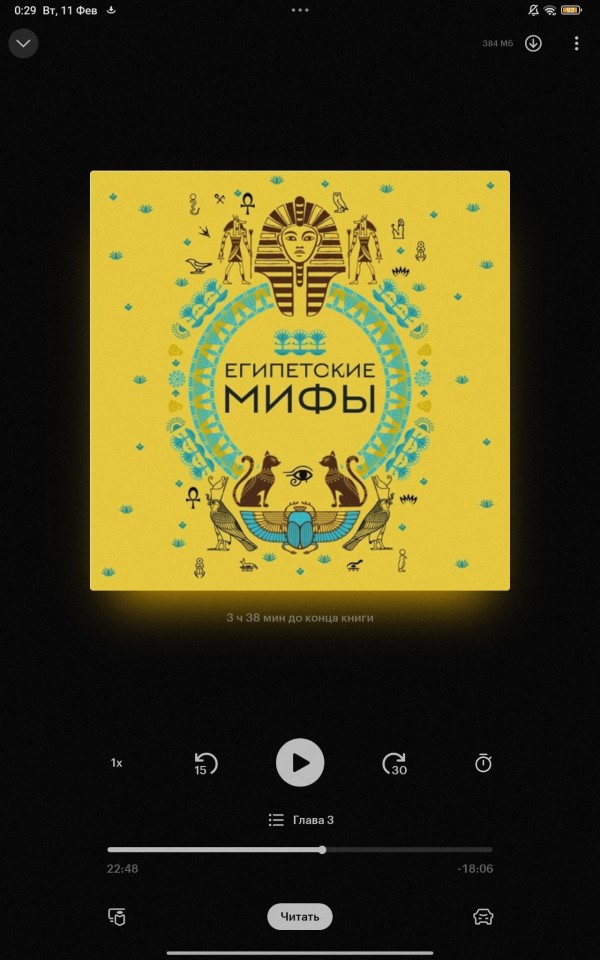
#русский тамблер#будни студента#русский tumblr#русский пост#русский блог#по русски#личный блог#журналист#книги#сессия#студенческие будни#студенческаяжизнь#сми#турумбочка#отпуск#тренировки#египет
16 notes
·
View notes
Note
Приветик ⭐ увидела, что вы учитель нового поколения, захотелось узнать побольше о том как оно? Как вы выбрали эту профессию? Это прям призвание, вам хотелось учить детей? И какие они эти новые дети, выросшие на айпадах? А ещё насчёт зп.. Всю жизнь возмущает то, что учителя и врачи за безумно сложную работу получают копейки. Вам нравится что вы делаете и где находитесь или есть некоторое разочарование?
Прошу прощения, если достали с такими вопросами и заранее спасибо за возможный ответ👐
P.S. Я всё никак не могу принять тот факт, что учителя теперь со мной одного возраста и мы можем быть друзьями, а не какие-то страшные взрослые женщины 😄
Здравствуйте.
Это не я выбрала профессию, а она меня. Честно говоря, я хотела поступать в театральный (тогда было такое направление, как «Литературное дело»), но судьба сложилась иначе и попасть на творческий конкурс я не смогла. Поэтому судьба завела меня в педагогический.
Учить детей – точно не моё призвание. Попала я в школу лишь по причине того, что в моём городе других мест мало, а куда ходила на собеседования, меня по итогу не взяли.
Современные дети, скажет так, «страшные» люди. Для них никто не авторитет. Им всё равно, что ты старше (и это касается не только молодых учителей). Им ничего не надо, они ничего не хотят. Конечно, такие не всё дети, есть и те, кто будут тебя слушать, но это единицы. Чаще всего такие дети «погибают» в общей массе.
Что насчет зарплаты. У меня нет ни классного руководства, ни больших часов (минимальная ставка – 18 часов, у меня 19). Получаю, думаю, нормально. Знаю, что многие, работающие больше часов, получают в разы меньше.
Я, на самом деле, до сих пор не знаю, чего я хочу от себя, чем мне хочется заниматься. Если и есть разочарование, то, может, только в себе самой.
В любом случае, спасибо за вопрос. 🐸
12 notes
·
View notes
Text

14 февраля - 170 лет со дня рождения Всеволода Михайловича Гаршина (1855-1888), русского писателя, поэта, художественного критика.
Детство будущий писатель провёл в военной среде (отец был офицером). Уже ребёнком Гаршин был крайне нервным и впечатлительным, чему способствовало слишком раннее умственное развитие (впоследствии страдал приступами нервного расстройства). Учился в Горном институте, но не закончил его. Война с турками прервала его занятия: он поступил добровольцем в действующую армию, был ранен в ногу; выйдя в отставку, отдался литературной деятельности.
В 1880 году, потрясённый смертной казнью молодого революционера, Гаршин заболел психически и был помещён в лечебницу для душевнобольных. 19 марта 1888 года, Гаршин, после мучительной, бессонной ночи вышел из своей квартиры, спустился этажом ниже и бросился с лестницы в пролёт. Его подняли разбитого, с переломленной ногой, и перенесли в квартиру. Несколько часов он пробыл в сознании, затем его перевезли в больницу Красного Креста, где он, вскоре по прибытии, впал в бессознательное состояние и уже не выходил из него до смерти. 24 марта 1888 года, Всеволод Михайлович Гаршин скончался, не приходя в сознание.
На литературное поприще Гаршин выступил в 1876 году с рассказом «Четыре дня», сразу создавшим ему известность. В этом произведении ярко выражен протест против войны, против истребления человека человеком. Этому же мотиву посвящён целый ряд рассказов: «Денщик и офицер», «Аяслярское дело», «Из воспоминаний рядового Иванова» и «Трус»; герой последнего мучается в тяжёлой рефлексии и колебаниях между стремлением «принести себя в жертву за народ» и страхом перед ненужной и бессмысленной смертью. Гаршин написал также ряд очерков, где социальное зло и несправедливость рисуются уже на фоне мирной жизни.
«Происшествие» и «Надежда Николаевна» затрагивают тему «падшей» женщины. В «Attalea princeps» в судьбе пальмы, рвущейся на свободу и погибающей под холодным небом, Гаршин символизировал судьбу террористов. В 1883 году появился один из замечательнейших его рассказов — «Красный цветок». Герой его, психически больной, борется с мировым злом, которое, как ему кажется, воплотилось в красном цветке в саду: достаточно сорвать его и будет уничтожено всё зло мира. В «Художниках» Гаршин, разоблачая жестокость эксплуатации, ставит вопрос о роли искусства в обществе и борется против теории чистого искусства. Сущность существующего строя с доминирующим при нём личным эгоизмом ярко выражена в рассказе «Встреча». Гаршин написал ещё ряд сказок: «То, чего не было», «Лягушка-путешественница», «Сказание о гордом Аггее» и другие, где та же гаршинская тема о зле и несправедливости разработана в форме сказки, исполненной грустного юмора.
Гаршин узаконил в литературе особую художественную форму — новеллу, которая получила полное развитие впоследствии у Антона Чехова. Сюжеты новеллы Гаршина несложны. Она построена всегда на одном основном мотиве, развёрнутом по строго логическому плану. Ком��озиция его рассказов, удивительно законченная, достигает почти геометрической определённости. Отсутствие действия, сложных коллизий — характерно для Гаршина. Большинство его произведений написано в форме дневников, писем, исповедей (например, «Происшествие», «Художники», «Трус», «Надежда Николаевна» и др.). Количество действующих лиц очень ограничено.
Драматизм действия заменён у Гаршина драматизмом мысли, вращающейся в заколдованном кругу «проклятых вопросов», драматизмом переживаний, которые и являются основным материалом для Гаршина.
Необходимо отметить глубокую реалистичность гаршинской манеры. Для его творчества характерны точность наблюдения и определённость выражений мысли. У него мало метафор, сравнений, вместо этого — простое обозначение предметов и фактов. Короткая, отточенная фраза, без придаточных предложений в описаниях. «Жарко. Солнце жжёт. Раненый открывает глаза, видит — кусты, высокое небо» («Четыре дня»). Широкий охват социальных явлений не удавался Гаршину, как не удавалась и более спокойная жизнь писателю поколения, для которого основной потребностью было «претерпеть». Не большой внешний мир мог он изображать, а узкое «своё». И это определяло все особенности его художественной манеры.
«Своё» для поколения передовой интеллигенции 1870-х годов — это проклятые вопросы социальной неправды. Больная совесть кающегося дворянина, не находя действенного выхода, всегда била в одну точку: сознание ответственности за зло, царящее в области человеческих отношений, за угнетение человека человеком — основная тема Гаршина. Зло старого крепостного уклада и зло нарождающегося капиталистического строя одинаково наполняют болью страницы гаршинских рассказов. От сознания общественной несправедливости, от сознания ответственности за неё спасаются герои Гаршина, как и он сам это сделал, уходя на войну, чтобы там, если не помочь народу, то по крайней мере разделить с ним его тяжёлую участь…
В этом было временное спасение от мук совести, искупление кающегося дворянина («Все они шли на смерть спокойные и свободные от ответственности…» — «Воспоминания рядового Иванова»). Но это не было разрешением социальной проблемы. Выхода писатель не знал. И поэтому глубоким пессимизмом проникнуто все его творчество. Значение Гаршина в том, что он умел остро чувствовать и художественно воплощать социальное зло.
2 notes
·
View notes
Text

Варлам Тихонович Шаламов
18 июня 1907 - 17 января 1982
Последние дни Шаламова
Я должна рассказать о последних месяцах жизни Варлама Тихоновича Шаламова и о его смерти. О Шаламове писали многие люди, знавшие его в разные периоды жизни гораздо дольше и лучше меня, но случилось так, что я оказалась свидетелем «финала трагедии». Несколько раз мои устные рассказы использовали в своих работах журналисты, но, полагаю, мне самой следует максимально подробно и точно описать все, что я видела и слышала в июне 1981 — январе 1982 года.
Для того, чтобы сделать понятными некоторые обстоятельства, придется сначала кое-что сообщить о себе и о том, как я оказалась возле В. Т.. Мой Шаламов начался лет в 14 с песни Галича «Все не вовремя» из цикла «Литераторские мостки». Знала я тогда, а было это начало семидесятых, только то, что Шаламов много лет провел в лагере. О том, что такое лагерь, я тоже немножко знала, мама не выгоняла меня из комнаты, когда велись «взрослые» разговоры, и «самиздат» от меня не прятали, «Крутой маршрут» я успела прочесть. А в конце 1979 или начале 1980 года мой отец, переводчик Виктор Александрович Хинкис, попросил меня пойти вместе с ним в «Дом престарелых». По дороге отец объяснил, что идем мы к Шаламову. «Это тот, кому посвящена песня Галича?» — спросила я. «Ну да», — ответил папа. И я услышала о существовании «Колымских рассказов», о письме в «Литературку», о болезни и одиночестве Шаламова, о том, что почти никто не знает, где именно сейчас находится Варлам Тихонович. Сам же отец выяснил адрес «Дома престарелых», куда мы направлялись, от своего знакомого, журналиста Сергея Ивановича Григорянца. Григорянц, знавший Шаламова раньше, с трудом разыскал его, хотел навестить В. Т., но не успел, так как был арестован. И вот мы пришли в «Дом для инвалидов и престарелых N9». Надо сказать, что в то время я уже была студенткой 5 курса мединститута, подрабатывала фельдшером на «скорой», кое-что повидала и считала себя опытным человеком. Но то, что я увидела, в рамки моего опыта не укладывалось. В маленькой палате стояло две койки, две тумбочки и стол. Грязь, запах. Два старика (у В. Т. в то время еще был сосед) — один неподвижно лежит на кровати, другой сидит на полу рядом с голой, не застеленной койкой, одет в какое-то тряпье, изможденный, все время дергается, лицо асимметричное. С ним-то отец и поздоровался очень громко. Старик крикнул что-то совершенно неразборчиво и взмахнул рукой, в которой была зажата погнутая алюминиевая кружка. Ни о разговоре, ни тем более о медицинском осмотре не могло быть и речи. Я выскочила на улицу, через несколько минут вышел отец. «Ну что? — спросил он. — Как ты думаешь, может, мне похлопотать, чтобы его перевели в другое место?» Я ответила: «Не знаю, по-моему, ему ничем помочь нельзя». Единственное, чего мне хотелось, это уйти как можно дальше от этого места и забыть о том, что я увидела.
Прошло около года. Я заканчивала институт, работала, часто бывала в доме у Надежды Яковлевны Мандельштам, Н. Я. и дала мне почитать «Колымские рассказы». Забыть не получалось, вернуться — тоже. В декабре 1980 года Надежда Яковлевна умерла, а в мае 1981 умер мой отец. В конце июня друзья Надежды Яковлевны собрались помянуть ее — исполнилось полгода со дня смерти. И вот Александр Анатольевич Морозов, замечательный человек, знаток поэзии, исследователь творчества Мандельштама, прочел несколько недавно записанных им стихотворений Шаламова.
Послеужинный кейф —
Наше лучшее время,
Открывается сейф
��еред всеми.
Под душой — одеяло,
Кабинет мой рабочий,
По сердцу карандаши
Днем и ночью.
Мозг работает мой
Как и раньше — мгновенно,
Учреждая стихи
Неизменно.
Меня поразили даже не столько сами стихи (цикл «Неизвестный солдат» был затем опубликован в «Вестнике христианского движения» еще при жизни В. Т. и, частично, в журнале «Литературное обозрение» в августе 1988г.). Ужасно было вдруг осознать, что они были разобраны с голоса В. Т. и записаны именно тогда, когда этот «человеческий обрубок» сидел на полу в грязной палате инвалидного дома. Господи, значит там, внутри этой скованной болезнью, отрезанной от мира не только стенами, но и глухотой, слепотой и почти немотой, оболочки, сидит живой, мыслящий человек, поэт.
На следующий день, испросив у Александра Анатольевича разрешения сказать, что мы его друзья, мой приятель Владимир Рябоконь и я пришли к Варламу Тихоновичу. Я очень боялась, что В. Т. нас не примет, прогонит, но он не прогнал. Имя Саши Морозова, которое мы прокричали в ухо В. Т., оказалось «волшебным словом». И я стала ходить в дом на улице Лациса один-два раза в неделю, сначала с Володей или Александром Анатольевичем, а потом и одна. Через некоторое время я встретилась еще с двумя людьми, которые в это же время каким-то образом разыскали В. Т. и стали его навещать. Это Татьяна Николаевна Трусова (Уманская), которая узнала своего деда, профессора Уманского, в рассказе «Вейсманист», и Людмила Анис, которая просто прочитала «Колымские рассказы» и решила увидеть их автора.
Кормили, купали в ванной, стригли ногти, переодевали в чистое, стирали и тут же на батарее сушили вельветовые пижамы, оставшиеся от моего деда и пришедшиеся очень кстати, мыли полы. Узнавал В. Т. по рукопожатию, хотя, честно говоря, я не уверена, что он узнавал, кто именно пришел, разве что А. А. Морозова. Скорее чувствовал, что пришел друг. Постепенно я научилась разбирать, что В. Т. говорит, но мы почти и не разговаривали. Что я могла такого сказать, что представляло бы интерес для Шаламова. Тем более было бы дико мучить его какими-то расспросами, речь давалась ему тяжело. Читать сам он, конечно, не мог, и слушать чтение тоже желания не выражал. Только дважды я приносила ему его книги — один раз «тамиздатский» том «Колымских рассказов», и другой — журнал «Юность» за август 1981 года с подборкой его стихов. Он надписал мне журнал, хотя рука все время дергалась, а видел ли он хоть что-нибудь, я так и не знаю.
Лене Циркис
от автора
В. Шаламов
Тушино, 25 сентября
Фамилия Хинкис — он три раза переспрашивал — ему не далась, а объяснять про своего покойного отца, которого он когда-то знал, я не стала. В. Т. так чудовищно напрягался, пытаясь разобрать, что ему говорят, что я просто не могла себе этого позволить.
Я думаю, что В. Т. считал себя заключенным, да, собственно, он им и был. Поэтому он срывал с кровати постельное белье — протестовал, как мог, повязывал полотенце на шею, чтобы не украли сокамерники (к этому времени сосед умер или его перевели в другую палату, но, по-моему, В. Т. этого не заметил). При этом он с невероятным трудом, но все-таки перемещал себя до туалета, находившегося тут же, в предбаннике палаты. Путешествие в ванную комнату могло происходить только с помощью двух людей, и являлось для В. Т. настоящим подвигом. И он его совершал. Дело в том, что у В. Т. была болезнь Меньера, тяжелое неврологическое страдание, при котором резко нарушается способность к целенаправленным движениям, зато все время происходят непроизвольные подергивания мыщц. В этих условиях человек, к тому же почти слепой, сам передвигаться не может.
Тут, наверное, следует подробнее описать, что представлял собой «Дом для престарелых и инвалидов». Обитателями этого заведения были одинокие, тяжелобольные люди, кстати, далеко не всегда престарелые или даже пожилые, много было там и молодых инвалидов, главным образом с нарушениями двигательного аппарата. Понятно, что все они нуждались в первую очередь в уходе, так как не могли самостоятельно передвигаться, а зачастую даже и есть сами. О необходимости медицинской помощи нечего говорить. В интернате был врач, а может быть и несколько, были медицинские сестры, санитарки. Конечно, персонала не хватало, но дело не в этом. Дело в отношении. Не хочется зря обидеть кого-нибудь, может быть, среди сотрудников и были люди добросовестные и просто добрые, но выглядело это вот как.
Те, кто мог хоть как-то двигаться или имел дальних родственников, плативших, пусть небольшие, деньги, еще могли выжить. Беспомощные, прикованные к постели — умирали. От голода — кормить с ложки было не принято, или от гнойных пролежней, образовывавшихся от лежания по несколько суток на мокрых, загаженных простынях. Кричали, пока были силы кричать, а что толку. Медицинская помощь, если бы она и была, в таких условиях не имела никакого смысла. От этого нет лекарств. Некоторым, впрочем, приносили какие-то таблетки, да не все могли их проглотить. Словом, каждый раз, подходя к дверям «Дома для инвалидов и престарелых», я буквально силой заставляла себя войти внутрь. И привыкнуть мне не удалось. Оказываясь внутри, я испытывала вновь такой же шок, как в 1979 году.
Тех, кто хочет лучше представить себе ситуацию, я отсылаю к опубликованной в первом номере «Иностранной литературы» за 2002 год документальной прозе Рубена Гальего «Черным по белому». Могу засвидетельствовать — все, что там написано — правда. Думаю, что такого рода заведения — это самое страшное и самое несомненное свидетельство деформации человеческого сознания, которое произошло в нашей стране в 20-м веке. Человек оказывается лишенным не только права на достойную жизнь, но и на достойную смерть.
Нескольким женщинам, обитавшим в соседних с В. Т. палатах, мы понемногу помогали. Кого покормим, кого перестелим. Они еще появятся на минуту в конце моего рассказа. А сейчас надо вернуться в лето 1981 года. В августе В. Т. перенес воспаление легких, еле выжил, приходили мы в это время чаще, каждый день, давали антибиотики. А в сентябре меня пригласил к себе для беседы главный врач. Он поинтересовался, кем доводимся Шаламову Морозов, Уманская, Анис и я. «Вы не родственники, так и не ходите, — сказал главный врач. — А то мне уже намекают «оттуда», что обстановка нездоровая, да еще Евтушенко звонил, интересуются разные люди... Нехорошо. Вы ведь понимаете, что я могу перевести вашего Шаламова в интернат для психохроников, с глаз подальше, тем более основания есть, он недавно протечку устроил, воду в туалете не закрыл».
Я испугалась. «Интернат для психохроников» — это почти полная изоляция, а условия там еще хуже, я уже знала, что бывает еще хуже. Перестать ходить к В. Т. я не могла, это было бы предательством. Может, и не много значили наши посещения, но все-таки мы его мыли и кормили, держали за руку, просто были с ним, а теперь взять и исчезнуть, и он опять останется один. Надо сказать, что за те месяцы, что я бывала у В. Т., мне ни с кем, кроме трех упомянутых выше людей, сталкиваться не приходилось, может быть, кто-то еще его и навещал, не знаю. Я долго уговаривала главного врача. Уверяла, что мы и сами не заинтересованы в лишних разговорах, что ни Евтушенко, ни кого бы то ни было еще, мы ни о чем не просили. Ссылалась на то, что я врач (в это время я уже окончила институт и работала в одной из московских больниц), что В. Т. нуждается в элементарной помощи сиделки и так далее. Разговор завершился тем, что посещения нам не запретили, но пригрозили провести психиатрическую экспертизу В. Т..
Вскоре экспертиза состоялась. Мне удалось добиться разрешения присутствовать. Несколько человек, сотрудники районного психоневрологического диспансера проследовали в кабинет главного врача, меня, естественно, не пустили. Пробыв у главного около получаса, они зашли в палату к В. Т. и спросили его, какое сегодня число. В. Т. не ответил, не услышал, а вероятнее всего — не захотел отвечать. И, задав еще пару вопросов — какой день недели и что-то еще — комиссия покинула палату. Я побежала следом, пыталась объяснить, что В. Т. плохо слышит, мне кратко ответили — сенильная деменция. И ушли. В переводе на человеческий язык это означает, что полуслепой и полуглухой беспомощный человек, живущий в изоляции, не имеющий не то что телевизора или радио, но даже календаря (да и не нуждающийся в них), и не знающий, какое сегодня число, страдает старческим слабоумием. Все.
После «экспертизы» я еще раз была у главного врача. Он повторил заключение комиссии, и добавил — пока подождем. Мы оставили в сестринской комнате свои телефоны, потолковали со всеми медсестрами, просили позвонить, если все-таки переведут.
Прошла осень, мы продолжали навещать В. Т. два-три раза в неделю по очереди, нами никто больше не интересовался. Показалось, что опасность миновала. В Новый год у В. Т. был А. А. Морозов, в начале января, как обычно, приходили попеременно. Я была в последний раз числа 12-го. А вечером 15-го мне позвонила Т. Н.Уманская. Шаламов исчез, сказала она. На следующий день мы пришли в пустую палату, на батарее висела чистая пижама, в тумбочке лежали стопкой газеты «Московский литератор» и приглашения на вечера в Дом писателей. Я забыла сказать, что Литфонд регулярно присылал их Шаламову по почте, не забывали писатели своего собрата. Старушка из соседней палаты сказала: «Увезли вашего Тихона» (почему-то она его Тихоном называла, видимо, имя Варлам было не упомнить). Пошли к дежурной медсестре — ничего не знаю, была не моя смена, приходите днем к главному врачу. Дальше я помню неотчетливо, по-моему, я ее слегка придушила, но так или иначе, она посмотрела в какой-то журнал и дала адрес: Абрамцевская улица, интернат для психохроников №32.
Утром 17 января, была суббота или воскресенье, Людмила Анис и я поехали туда. Это было какое-то марсианское место, посреди изрытого замерзшими глиняными колдобинами пустыря стояло большое серое бетонное здание, как мне показалось, почти без окон. Долго бродили мы вокруг в поисках входа. Наконец, нашли запертую дверь, позвонили, опять долго-долго ждали. Кто-то открыл, я путано и почти без всякой надежды на успех объясняла ситуацию, просила разрешения побеседовать с дежурным врачом, напирая на то обстоятельство, что я медицинский работник. Удивительно, но нас впустили. Ко мне вышел дежурный доктор, выслушал мой лепет. Доктор оказался человеком. Он разрешил нам зайти к В. Т., хотя посещений в это время не было. День был очень морозный и ясный, большая палата насквозь прострелена солнцем (стало быть, окна были). На одной из кроватей лежал В. Т., на соседней — какой-то старик засовывал себе в рот пальцы, измазанные экскрементами. Потом доктор рассказал мне, что это был в прошлом крупный гэбэшный чин.
Мы подошли к Шаламову. Он умирал. Это было очевидно, но все-таки я достала фонендоскоп. В. Т. умирал от воспаления легких, развивалась сердечная недостаточность. Думаю, что все было просто — стресс и переохлаждение. Он жил в тюрьме, за ним пришли. И везли через весь город, зимой, верхней одежды у него не было, он ведь не мог выходить на улицу. Так что, скорее всего, накинули одеяло поверх пижамы. Наверное, он пытался бороться, одеяло сбросил. Какая температура в рафиках, работающих на перевозке, я хорошо знала, сама ездила несколько лет, работая на «скорой».
Я вернулась к дежурному врачу, спросила, получает ли Шаламов какое-нибудь лечение. Доктор достал из шкафчика историю болезни, посмотрел сам, к моему изумлению, дал посмотреть и мне. Оказалось, он же дежурил и в день перевода В. Т.. В записи первичного осмотра значилось — беспокоен, пытался укусить врача. Диагноз все тот же, сенильная деменция. В назначениях я обнаружила антибиотик, стало быть, воспаление легких развилось почти сразу. Пошла к медсестре, оказалось, антибиотик сегодня еще не вводили, не дошла очередь. Опять вернулась к доктору, и, ясно понимая, что смысл в моих действиях чисто символический, попросила назначить внутривенное вливание препарата, стимулирующего деятельность сердца. — Пожалуйста, можете даже сами ввести. — Ввела, и антибиотик тоже. Еще раз повторю, я не считала, что это может изменить ситуацию, Шаламов был в агонии, но все-таки я решила сделать то немногое, ч��о было возможно. Ничего не изменилось, да и не могло измениться. Тогда я стала читать молитву «На исход души». Не буду утверждать, что Шаламов перед смертью узнал нас, но надеюсь все же, что присутствие наше он успел почувствовать. Впрочем, не знаю. Через полтора часа В. Т. умер.
Я совершенно не понимала, как мне быть. Спросила у доктора, какая у них принята практика. Выяснилось, что тела умерших увозят в морг и какое-то время хранят там. Невостребованные в течение двух, что ли, месяцев передают в анатомический театр или кремируют сразу несколько тел и хоронят в одной урне, а где, доктор не знает. И тут до меня дошло, что я же — не родственница Шаламову, и никто из моих друзей не родственник, и есть ли в живых кто-нибудь из родных В. Т., и где они — я не знаю. А это значит, что тело мне, скорее всего, не выдадут, и никому не выдадут. Оставалось попробовать все-таки пол��чить свидетельство о смерти. Я вернулась в палату, заглянула в прикроватную тумбочку. Пустой портсигар тюремной работы (наверное, чей-то давний подарок, В. Т. не курил), пустой кошелек, рваный бумажник. В бумажнике несколько конвертов, квитанции на ремонт холодильника и пишущей машинки за 1962 год, талончик к окулисту в поликлинику Литфонда, записка очень крупными буквами: «В ноябре Вам еще дадут пособие сто рублей. Приедите (так) и получите потом», без числа и подписи, свидетельство о смерти Н.Л. Неклюдовой, профсоюзный билет, читательский билет в «Ленинку», все. Паспорта нет, а без него свидетельства не получишь. Опять к доктору. Оказалось, паспорт на прописке в ЖЭКе, так положено, всех обитателей интерната сразу прописывают. Шаламова увезли, доктор по моей просьбе сделал отметку в сопроводительном документе, что родственники есть, и выдал-таки мне врачебную справку о смерти. Я не знаю имени своего коллеги из интерната для психохроников, но именно ему мы обязаны тем, что у Шаламова есть могила.
Выходной день, ЖЭК не работает, больше сделать ничего нельзя. Дальше я помню не очень четко, конечно, я позвонила нескольким друзьям, и мне стали звонить многие и многие, собирались деньги, приходили люди, В понедельник в ЖЭКе мне почему-то без особой волокиты отдали паспорт Шаламова, он оказался уже посмертно прописан на Абрамцевской улице. Дальше было проще, паспорт и справку обменяли в ЗАГСе на свидетельство о смерти, вырезали из паспорта фотографию и тоже отдали. Таким образом, я получила право похоронить Шаламова.
И здесь я должна рассказать о том, как я солгала. Дело в том, что открыты для захоронения в то время были два кладбища, оба далеко за чертой города. Кто-то, не помню, к сожалению, кто именно, обратился в Литфонд за помощью в организации похорон. Я встретилась с человеком, который занимался похоронами писателей, он взялся хлопотать о месте на Троекуровском кладбище, повесил в холле Дома литераторов фотографию в траурной рамке. И назначил мне встречу в секретариате Союза писателей. Я пришла, мне сообщили, что предполагается траурный митинг в Дубовом зале Дома литераторов. И тут со мной что-то случилось, я вспомнила газеты и приглашения в тумбочке, сидящего на полу Шаламова с полотенцем на шее, и твердо сказала, что Варлам Тихонович завещал мне отпеть его в церкви. Это была неправда, я никогда не говорила с В. Т. на религиозные темы, мне и в голову это не приходило. Тем более я бы не осмелилась судить о его вере или неверии. Но он был сыном священника, он точно был крещен, стало быть, в отсутствие прямого запрета с его стороны, его следовало отпеть. Все это промелькнуло у меня в голове, и одновременно я уже слышала ответ секретаря — ну что ж, только тогда представители СП присутствовать не смогут.
Отпевали Шаламова в церкви Николы в Кузнецах, именно эту церковь посоветовал мне отец Александр Мень, не знаю, почему именно ее. На похороны пришло очень много людей, у ограды Троекуровско-го кладбища дежурили черные Волги. К стеклу кабины похоронного автобуса был прикреплен портрет Сталина. Один из моих друзей подошел к водителю отдать традиционную бутылку водки. Водитель спросил, кого хоронят. Услышав, что писателя, сидевшего в лагере, сказал — извините, я ж не знал, и убрал портрет.
автор Елена Захарова
3 notes
·
View notes
Text
Привет! Welcome!
Это - творческий и личный блог, уютное место для меня и, надеюсь, для вас тоже)) Я пропагандирую доброжелательность, здравый смысл и душевный комфорт. Основная часть фоторабот в параллельном блоге
Instagram - литературное творчество - телеграм-дневник
46 notes
·
View notes