#михаил кузмин
Explore tagged Tumblr posts
Text




#valentines day#russian literature#historical fandom#writers and poets#art#illustration#руслит#anna achmatova#Nikolai Gumilyov#zinaida gippius#mikhail kuzmin#fanart#анна ахматова#николай гумилев#зинаида гиппиус#михаил кузмин#русская литература#1900s#1910s
68 notes
·
View notes
Text
An English Translation of Wings (Крылья, 1906) by Mikhail Kuzmin
I'm a big fan of Maurice by E.M. Forster and The Picture of Dorian Grey by Oscar Wilde and as I was looking up other homoerotic literature from the period, I came across this quote:
"Wilde in The Picture of Dorian Gray (1890) only hinted that his hero's inner corruption resulted from his suppression of his true nature; Gide did not dare to name the attraction of his hero in The Immoralist (1902); Proust felt impelled to engage in all manner of subterfuge, and Forster wrote Maurice for the desk drawer."
by John E. Malmstad in relation to the novella Wings by Russian author Mikhail Kuzmin. One of, if not the first, works of literature focussed on (male) homosexuality explicitly and positively came out of stereotypically repressive Tsarist Russia - how could I not be intrigued? I immediately decided that I should make it my next translation project.
At the outset I was not familiar with any previous translations, though since finishing a rough draft, I found the Hesperus Modern Voices edition, which I do recommend for its introduction and extensive footnotes by Hugh Aplin; however, I found that translation to be quite wonky in a lot of places and I hope mine clears up at least a little bit of the confusion some readers may have had at certain points. That said, as an amateur, I do not mean to disparage a professional translation and I recognise my own work still has its own passages I'm not totally satisfied with; Kuzmin's style in this book (I'm admittedly not very familiar with his other work) is difficult in that, despite the layers upon layers of high-brow references and ornamentations, its texture, it is quite laconic in its actual structure; the novella is composed of vignettes, presented on their own, without clear immediate relation to one another, or much, if any, scene-setting. It is disorienting, especially at first, and certainly unexpected given the forms of narrative typically encountered in the era, but, as others have pointed out, it has its similarities to cinema: Kuzmin's prose is like a camera pointed at various objects, leaving one to draw their own conclusions on the meaning based both on the image and the contrast created by the cuts between images, while the camera does not have a voice of its own to explain its intent in the same way an author can.
The same principle of recording detail whilst leaving a large part of the context implied applies to the dialogue as well - the main difficulty I found was in making sense out of the many disjointed phrases, often with multiple possible meanings, seperated from an obvious preceding or following context found throughout that represent several of the conversations. I apologise if my rendering of the dialogue is difficult to read or doesn't flow well, but at the same time, I believe this disorienting effect is intended at least in part by the original author.
The novella is divided into three parts, which I shall post seperately:
Part One here
Part Two here
Part Three here
21 notes
·
View notes
Text
Mijaíl Kuzmín – Alas, I
Nosotros somos helenos: nos es ajeno el intolerante monoteísmo de los judíos, su rechazo a las bellas artes y, al mismo tiempo, su inclinación por la carne, por la descendencia, por la semilla. En toda la Biblia no existe indicio alguno de creencia en la dicha suprema tras la muerte, y la única recompensa mencionada en los mandamientos (y sólo si respetamos a quienes nos dieron la vida) es: “vivirás largos años en la tierra”.
Un matrimonio infructuoso es una mancha y una maldición, e incluso se les despoja del derecho a participar en la misa. Parece como si olvidaran que, según la tradición judía, la procreación y el trabajo son un castigo por pecar y no la finalidad de la vida. Y que cuanto más lejos estén las personas del pecado, más se alejarán de la procreación y del trabajo físico. Los cristianos lo entienden relativamente cuando afirman que la mujer debe purificarse a través de la oración después del parto y no después del matrimonio, mientras que el hombre no se encuentra sometido a ninguna obligación parecida. El amor no tiene otro objetivo más que sí mismo. La naturaleza también está despojada de cualquier sombra de idea de finalidad. Las leyes de la naturaleza pertenecen a una clase por completo diferente a las llamadas leyes divinas y humanas. La ley de la naturaleza no se reduce a que un árbol deba dar su fruto, sino que bajo determinadas condiciones ese árbol dará su fruto y bajo otras no lo dará, y que morirá cierta e igualmente tanto si da su fruto como si no lo da. Si clavas un cuchillo en un corazón, este puede dejar de latir, y aquí no encontramos finalidad alguna, ni bien ni mal. Sólo podrá burlar la ley de la naturaleza quien sea capaz de besar sus propios ojos sin sacarlos de sus órbitas o de verse la nuca sin espejo. Y cuando os digan «eso es antinatural», tan sólo mirad al ciego que os lo ha dicho y pasad de largo para que no os parezcáis a esos gorriones que salen volando asustados por el espantapájaros. La gente va como ciega, como muerta, cuando podrían llevar una vida apasionante en la que todos los placeres fuesen tan intensos como si nada más nacer ya tuviéramos que morir. Con una voracidad exactamente así deberíamos apropiarnos de todo. Los milagros nos rodean a cada paso: ¡es imposible contemplar los músculos y tendones del cuerpo humano sin estremecerse! Y aquellos que vinculan la noción de belleza con la belleza de una mujer ante los ojos de un hombre sólo dan muestras de una vulgar lujuria, y se desvían más y más de la auténtica idea de belleza. ¡Nosotros somos helenos, amantes de lo bello, bacantes de la vida futura! Como las visiones de Tannhäuser en la gruta de Venus, como las predicciones de Klinger y Thoma, existe una patria primordial inundada de sol y libertad, con personas bellas y valientes. Y hacia allí, a través del mar, a través de la bruma y de las tinieblas, ¡nos dirigimos nosotros, los argonautas! ¡Y en los hechos más insólitos reconoceremos nuestras más arcanas raíces, y en los resplandores nunca vistos sentiremos nuestra patria!
[RUT] Мы — эллины: нам чужд нетерпимый монотеизм иудеев, их отвертывание от изобразительных искусств, их, вместе с тем, привязанность к плоти, к потомству, к семени. Во всей Библии нет указаний на верование в загробное блаженство, и единственная награда, упомянутая в заповедях (и именно за почтение к давшим жизнь) — долголетен будешь на земле. Неплодный брак — пятно и проклятье, лишающее даже права на участье в богослужении, будто забыли, что по еврейской же легенде чадородье и труд — наказание за грех, а не цель жизни. И чем дальше люди будут от греха, тем дальше будут уходить от деторождения и физического труда. У христиан это смутно понято, когда женщина очищается молитвой после родов, но не после брака, и мужчина не подвержен ничему подобному. Любовь не имеет другой цели помимо себя самой; природа также лишена всякой тени идеи финальности. Законы природы совершенно другого разряда, чем законы божеские, так называемые, и человеческие. Закон природы — не то, что данное дерево должно принести свой плод, но что при известных условиях оно принесет плод, а при других — не принесет и даже погибнет само так же справедливо и просто, как принесло бы плод. Что при введеньи в сердце ножа оно может перестать биться; тут нет ни финальности, ни добра и зла. И нарушить закон природы может только тот, кто сможет лобзать свои глаза, не вырванными из орбит, и без зеркала видеть собственный затылок. И, когда вам скажут; «противоестественно», — вы только посмотрите на сказавшего слепца и проходите мимо, не уподобляясь тем воробьям, что разлетаются от огородного пугала. Люди ходят, как слепые, как мертвые, когда они могли бы создать пламеннейшую жизнь, где все наслаждение было бы так обострено, будто вы только что родились и сейчас умрете. С такою именно жадностью нужно все воспринимать. Чудеса вокруг нас на каждом шагу: есть мускулы, связки в человеческом теле, которых невозможно без трепета видеть! И связывающие понятие о красоте с красотой женщины для мужчины являют только пошлую похоть, и дальше, дальше всего от истинной идеи красоты. Мы — эллины, любовники прекрасного, вакханты грядущей жизни. Как виденья Тангейзера в гроте Венеры, как ясновиденье Клингера и Тома, есть праотчизна, залитая солнцем и свободой, с прекрасными и смелыми людьми, и туда, через моря, через туман и мрак, мы идем, аргонавты! И в самой неслыханной новизне мы узнаем древнейшие корни, и в самых неви��анных сияньях мы чуем отчизну!
#Mijaíl Kuzmín#Михаил Кузмин#Alas#saec. XX#1906#scriptum#litterae#Hispanice#Ruthenice#Manuel Ángel Chica Benayas
0 notes
Text
youtube
Елка
С детства помните сочельник, Этот детский день из дней? Пахнет смолкой свежий ельник Из незапертых сеней. Все звонят из лавок люди, Нянька ходит часто вниз, А на кухне в плоском блюде Разварной миндальный рис. Солнце яблоком сгорает За узором льдистых лап. Мама вещи прибирает Да скрипит заветный шкап. В зале все необычайно, Не пускают никого, Ах, условленная тайна! Все — известно, все ново! Тянет новая матроска, Морщит в плечиках она. В двери светлая полоска Так заманчиво видна! В парафиновом сияньи Скоро ль распахнется дверь? Это сладость ожиданья Не прошла еще теперь. Позабыты все заботы, Ссоры, крики, слезы, лень. Завтра, может, снова счеты, А сейчас — прощеный день. Свечи с треском светят, ярки, От орехов желтый свет. Загадаешь все подарки, А загаданных и нет. Ждал я пе карусели, А достался мне гусар, Ждал я пушки две недели — Вышел дедка, мил и стар. Только Оля угадала (Подглядела ли, во сне ль Увидала), но желала И достала колыбель. Все довольны, старый, малый, Поцелуи, радость, смех. И дрожит на ленте алой Позолоченный орех. Не ушли минуты эти, Только спрятаны в комод. Люди все бывают дети Хоть однажды в долгий год. Незаслуженного ��ара Ждем у запертых дверей: Неизвестного гусара И зеленых егерей. Иглы мелкой ели колки, Сумрак голубой глубок, Прилетит ли к нашей елке Белокрылый голубок? Не видна еще ребенку Разукрашенная ель, Только луч желто и тонко Пробивается сквозь щель. Боже, Боже, на дороге Был смиренный Твой вертеп, Знал Ты скорбные тревоги И узнал слезовый хлеб. Но ведет святая дрема Ворожейных королей. Кто лишен семьи и дома, Божья Мама, пожалей!
Кузмин Михаил, 1917
0 notes
Text
Сегодня был очень насыщенный впечатлениями день, моя эмоциональная лабильность меня пугает. 20 апреля, суббота. Сегодня день рождения бывшего парня подруги, который себя убил на этой неделе. Много думаю и чувствую по этому поводу. Еще сегодня день рождения девушки моего брата, они с тем парнем родились в один день, в 1999 году, это день Колумбайна, между прочим. Много думаю о самоубийствах, о том, каково было ему, и каково его бывшей девушке, которая улетела в другую страну решать дела, связанные с его смертью. Мысленно примеряю на себя обе роли. Я и до этого думала о самоуби��ствах очень много каждый день, а тут новая пища. Я думаю, это очень важная в моей жизни вещь, я сомневаюсь, что моя жизнь окончится как-то иначе, хотя кто знает – и кирпич на голову может упасть, и машина сбить, и рак обнаружиться.
Сегодня я сходила на три лекции на фестивале психического здоровья от больницы им. Алексеева, Psy Fest в "Благосфере". А еще сходила (это в пятнадцати минут ходьбы) на "Тотальный диктант" в Музей русского импрессионизма. Сначала я расплакалась от любви к русскому языку на предварительной речи – что не очень стабильно и здорово с моей стороны, – потом я расчувствовалась из-за темы диктанта, он называется "Дорогой дневник", это о дневниковой прозе как о жанре и явлении. Я только вчера цитировала статью о Марии Башкирцевой, и я и в принципе думаю много об этом жанре, но в последние дни особенно интенсивно, так что это совпадение ощущалось значительно. Потом я расчувствовалась в очередной раз, сходив на выставку в Музее русского импрессионизма, она о московской группе "13". Тоскливенько – в двадцатых люди рисовали, в начале тридцатых их заклеимили за буржуазность, аполитичность и индивидуалистичность, в конце тридцатых расстреляли и отправили в лагеря часть из них, потом были посмертные реабилитации, в общем, обычная история. Если за каждого плакать, то что я вообще успею в жизни, кро��е как поплакать... Однако всё же больно и искусство трогает, трудно думать о живописи, я её так мало знаю и понимаю в ней, фамилии, которые из этой выставки я знаю, я знаю из литературы – Михаил Кузмин, Ольга Глебова-Судейкина, Ольгу Арбенину-Гильдебрант знаю благодаря Мандельштаму, Юрия Юркуна – благодаря Одоевцевой. К таким тусовочкам я отношусь одновременно с интересом и какой-то неприязнью – богема... Впрочем, судьба этих кружков как бы и не позволяет действительно относиться к ним плохо – страдание всё очищает...
На лекции я мало успела сходить, на одну целую и ещё две по половинке. Первая была про гистрионическое расстройство личности ("Истерия: страдание или притворство"), вторая про зависимости, третья про травмы. Из психиатров не всегда хорошие лекторы, второй был очень скучный. Про травмы было не очень много мяса, но я и ушла с середины, не было времени, к сожалению, хотя девушка была довольно приятная. В начале были слайды типа "как вы думаете, у ребенка умерла мать, его отдали на воспитание тёте, а через два года тётя тоже умерла, каким будет этот ребёнок?" И на следующем слайде – это Лев Толстой. И вот такие трагические истории, по которым было интересно угадывать знаменитостей, я и не знала, что у Романа Поланского столько родни в концлагерях убили (это привело к разговору о том, насколько было иначе, когда убили его беременную жену, в чем разница между детскими и взрослыми травмами и между КПТСР и ПТСР).
Было немножко диссоциативное состояние, думаю, что таблеток, весны и Москвы и так уже очень много, а когда накладывается что-то сверх этого, то впечатлений становится слишком много и чувство реальности плывёт.
Вечером час поговорила с Леной, она звучит нормально, более-менее живо даже. Немного расстраивают здравые разумные советы... Такие простые занудные вещи я прекрасно могла бы говорить мне и сама. Хотя интенции хорошие, я ценю. Взяла у неё обещание никогда не убивать себя.
0 notes
Text

Mikhail Kuzmin, Muse
#excerpts#writings#literature#poetry#fragments#selections#words#quotes#poetry in translation#typography#russian literature#russian poetry#love#russian classics#русская литература#русская поэзия#mikhail kuzmin#михаил кузмин
13 notes
·
View notes
Text
Поэзия в кружеве рондо
Поэзия в кружеве рондо
Слагаемые стиха Когда-то древнему человеку, для того чтобы впасть в священное медитативное состояние, было достаточно ритма, из которого родилась музыка. Музыка притянула к себе и слова, которые хотелось спеть. Так из лона музыки родилась поэзия, и долгое время не существовала без музыкального фона. Русская литературная поэзия не знала этого долгого периода взрастания из музыкальной, песенной…

View On WordPress
0 notes
Photo




нас было четыре сестры, четыре сестры нас было, все мы четыре любили, но все имели разные «потому что»: одна любила, потому что так отец с матерью ей велели, другая любила, потому что богат был ее любовник, третья любила, потому что он был знаменитый художник, а я любила, потому что полюбила. нас было четыре сестры, четыре сестры нас было, все мы четыре желали, но у всех были разные желанья: одна желала воспитывать детей и варить кашу, другая желала надевать каждый день новые платья, третья желала, чтобы все о ней говорили, а я желала любить и быть любимой. нас было четыре сестры, четыре сестры нас было, все мы четыре разлюбили, но все имели разные причины: одна разлюбила, потому что муж ее умер, другая разлюбила, потому что друг ее разорился, третья разлюбила, потому что художник ее бросил, а я разлюбила, потому что разлюбила. нас было четыре сестры, четыре сестры нас было, а, может быть, нас было не четыре, а пять?
#михаил кузмин#серебряный век#русская поэзия#mikhail kuzmin#silver age#russian poetry#aesthetic#love
10 notes
·
View notes
Text
[Viaggi immaginari][Michail Kuzmin]
"Viaggi immaginari" raccoglie due raffinati giochi letterari del poeta acmeista Michail Kuzmin, che sperimenta sul canovaccio del romanzo d'avventure settecentesco e del romanzo di viaggio inglese evidenziandone i temi erotici da lui rivisitati in chiave
Due romanzi brevi del più dandy e scandaloso fra gli scrittori russi del primo ’900. Nelle Avventure di Aimé Leboeuf l’ambientazione francese assicura peripezie amorose, pratiche stregonesche, scambi d’identità e continue sorprese. Il Viaggio di sir John Fairfax offre al lettore peregrinazioni mirabolanti, arrembaggi di pirati e incontri con improbabili spasimanti. Il divertimento è comunque…
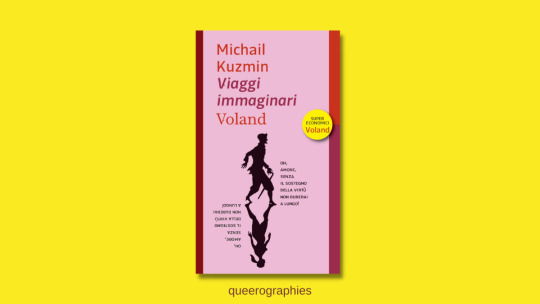
View On WordPress
#Avventure di Aimé Leboeuf#Daniela Di Sora#Михаил Алексеевич Кузмин#fiction#Il Viaggio di sir John Fairfax#letteratura gay#LGBT#LGBTQ#libri gay#Michail Alekseevič Kuzmin#Michail Kuzmin#Omosessualità nella letteratura e nella storia russa dall’XI al XX secolo#Priključenija Eme Lebefa#Russia#Sergio Trombetta#Simon Karlinsky#Viaggi immaginari#Voland
0 notes
Photo

Анна Ахматова...
Как долог праздник новогодний, Как бел в окошках снежный цвет. О Вас я думаю сегодня И нежно шлю я Вам привет.
Пускай над книгою в подвале, Где скромно ночи провожу, Мы что-то мудрое решали, Я обещанья не сдержу.
А Вы останьтесь верным другом И не сердитесь на меня, Ведь я прикована недугом К моей кушетке на три дня.
И дом припоминая темный На левом берегу Невы, Смотрю, как ласковы и томны Те розы, что прислали Вы...
/Анна Ахматова 1910 г. (Графу В. П. Зубову)

Пояснение к стихотворению:
Подвал – это кабаре «Бродячая Собака», куда завсегдатаи собирались за полночь, а разъезжались на рассвете.
Михаил Кузмин очень точно охарактеризовал особую атмосферу этих «подвальных» петербургских ночей:
Здесь цепи многие развязаны — Все сохранит подземный зал. И те слова, что ночью сказаны, Другой бы утром не сказал...
54 notes
·
View notes
Text
Как развеянные историей ароматы помогают понять литературу Серебряного века

Михаил Кузмин в одном из своих великолепных жилетов. Эту фотографию поэт подарил в 1910 году Анне Ахматовой
Михаил Кузмин — знаковая фигура русского модернизма. Он снискал славу как поэт, прозаик, критик, драматург, переводчик, музыкант. Его образ, закрепленный в прижизненных свидетельствах и мемуарах, — плоть от плоти Серебряного века, оттиск крайнего эстетизма эпохи, доведенного до предела изящества в литературе и в жизни.
Эстетизм Кузмина, пронизывавший его творчество, поведение и быт, был одной из наиболее ярких слагаемых кузминской легенды. ��еоргий Иванов так описал обстановку комнаты Кузмина в квартире на «Башне» Вячеслава Иванова: «Смешанный запах духов, табаку, нагоревшего фитиля. <...> Наконец, Кузмин входит. Папироса в зубах, запах духов, щегольской костюм, рассеянно-легкомысленный вид». Духи стали для Иванова неотъемлемой частью образа Кузмина — и если во многих фактах автора «Петербургских зим» нужно перепроверять, то эту деталь он отобразил верно: Кузмин был известным франтом и любителем парфюмерии.
Статус фата, модника подкреплялся и стихами Кузмина, в которых изысканные зарисовки из жизни петроградской богемы сочетались с детальным описанием повседневности, как, например, в хрестоматийных строчках: «Где слог найду, чтоб описать прогулку, / Шабли во льду, поджаренную булку / И вишен спелых сладостный агат?»
Первое десятилетие XX века стало апогеем эстетства поэта. В этот период Кузмин вращался в кругах художников-мирискусников, куда входили К. М. Сомов, А. Н. Бенуа и другие, жил на «Башне» Иванова. По слухам, в то время в кузминском гардеробе можно было насчитать 365 щегольских жилетов. Но особое место в его жизни и творчестве занимали духи — предмет роскоши, необходимая принадлежность быта эстета и объект личного интереса Кузмина. Его дневник тех лет пестрит упоминаниями о покупке «цветов и духов»: «Сережа находит, что у меня вид московского декадента и что это хорошо, спрашивал, какие ему завести духи, платье» (17 декабря 1906 года), «...пили отличный johanisberger, мадеру, кофе и ели рокфор. Поляков как-то скоро ослабел. Говорили о вине, о цветах, духах, оккультизме, обо мне» (23 января 1907 года). Парфюмерия присутствовала и в лирике поэта: «Пальцы рук моих пахнут духами, / В сладкий плен заключая мне душу» (1907), «Персидская сирень! „Двенадцатая ночь”» (1925) и т. д.
Область запахов трудно описать: хотя известно множество названий духов начала ХХ века, мы редко имеем возможность попробовать их в первозданном виде. Но нельзя отрицать роль ароматов в формировании облика эпохи, особенно в те периоды, когда популярен изысканный образ жизни, требующий «цветов и духов». Упоминание духов в художественном тексте редко бывает «просто» упоминанием и зачастую дополняет наши представления об эпохе, об авторе, и творчество Михаила Кузмина — яркий пример подобной «неслучайности».
«От меня пахло, как от плащаницы»
Сохранилось множество мемуарных свидетельств, согласно которым поэт был большим поклонником духов с ароматом роз. Алексей Ремизов так описал свое первое впечатление от встречи с Кузминым в начале 1900-х годов: «Кузмин тогда ходил с бородой — чернющая! — в вишневой бархатной поддевке, а дома <...> появлялся в парчовой золотой рубахе навыпуск <...> и так смотрит, не то сам фараон Ту-танк-хамен, не то с костра из скитов заволжских, и очень душился розой — от него, как от иконы в праздник».
Кузмин сделал розу одной из примет своего образа и своего творчества. Один из самых популярных кузминских романсов назывался «Дитя и роза» и начинался так:
Дитя, не тянися весною за розой, Розу и летом сорвёшь, Ранней весною сбирают фиалки, Помни, что летом фиалок уж нет.
Ирина Одоевцева, Мстислав Добужинский и Георгий Иванов вспоминали, что этот романс часто исполнялся в стенах «Бродячей собаки». Любовь в лирике поэта неоднократно сравнивается с розой: «Небывалость знойных поз... / То бесстыдны, то стыдливы / Поцелуев все отливы, / Сладкий запах белых роз» (1906), «Опять плету венок любовных роз / Рукою верною и терпеливой» (1910); «Поцелуи, что как розы, зацвели...» (1908) и т. д.
Однако у образа розы были и иные смыслы — религиозные: «небесные розы» и «розы рая» также встречаются в кузминской лирике, а запах розы ассоциировался еще и с розовым маслом, применяемым в богослужении. Сам поэт так описывал свой внешний облик в начале 1900-х: «армяки из тонкого сукна в соединении с духами (от меня пахло, как от плащаницы)». По-видимому, Кузмина привлекал двойственный аромат розы, заключающий в себе одновременно и любовно-эротические, и религиозные смыслы.
Любимым запахом писателя в начале 1910-х годов был парфюм дома Coty — La Rose Jacqueminot. Ходили слухи, что знакомые узнавали о присутствии Кузмина в гостях или в ресторане по шлейфу духов. Этот факт увековечил в своем стихотворении Федор Сологуб:
Мерцает запах розы Жакмино,
Который любит Михаил Кузмин.
Огнём углей приветен мой камин.
Благоухает роза Жакмино.
В углах уютных тихо и темно.
На россыпь роз ковра пролит кармин.
Как томен запах розы Жакмино,
Который любит Михаил Кузмин!
(28 декабря 1913 года. Петербург)
Аромат La Rose Jacqueminot посвящен одноименному сорту роз «Генерал Жакмино». Это яркий, сладкий, маслянистый цветочный запах с нотами розы и жасмина, мимо которого вряд ли мог пройти Кузмин, любитель насыщенных теплых, «церковных» ароматов. Духи были созданы в 1903 году, но в Россию они могли попасть в 1910 году, когда марка Коти открыла свои магазины в Москве. Несмотря на то, что аромат позиционировался как женский, среди поклонников La Rose Jacqueminot были также Николай Клюев и Александр Куприн. О последнем вспоминала писательница Надежда Лохвицкая (Тэффи): «Любил духи „Роз Жакемино” до блаженной радости. Если надушить этими духами письмо, будет носить его в кармане без конца».
Однако именно Кузмин остался в истории русской литературы как любитель и носитель «Розы Жакмино». Анна Ахматова упоминает этот факт в балетном либретто, написанном по мотивам «Поэмы без героя»:
У Коломбины <...>
Гости. Клюев и Есенин пляшут дикую, почти хлыстовскую, русскую. Демон. Она вся — ему навстречу. Черные розы. Первая сцена ревности драгуна. Его отчаяние. Стужа заглядывает в окно. (Бяка — предчувствие Стравинского.) Куранты играют: «Коль славен».
Духи Rose Jaquemineau.
Хромой и учтивый пытается утешить драгуна, соблазняя чем-то очень темным. («Башня» Вяч. Иванова) — Хромой и учтивый дома...
«Хромой и учтивый» — одна из постоянных характеристик Кузмина в разных редакциях «Поэмы»: «Прячет что-то под фалдой фрака / Тот, кто [хром] [нагл] и любезен. / <...> [Пусть глаза его, как озера, / От такого мертвею взора...». Утешение «драгуна» — центральный сюжет «Поэмы без героя»: самоубийство молодого поэта Всеволода Князева, служившего в гусарском по��ку и состоявшего в дружеских и любовных отношениях с Михаилом Кузминым в 1910–1912 годы. Фраза «Куранты играют: „Коль славен”» не только воссоздает узнаваемые реалии (мелодию гимна «Коль славен наш Господь в Сионе» играли куранты собора Петропавловской крепости), но и отсылает к одному из стихотворений Кузмина, начинающемуся строками «Я тихо от тебя иду, / А ты остался на балконе. / „Коль славен наш Господь в Сионе” / Трубят в Таврическом саду». Цикл, в который вошло это стихотворение, посвящен как раз Всеволоду Князеву. Этот фрагмент рисует типичную сцену из жизни петербургской богемы, а аромат Коти становится его парфюмерным воплощением — спутником соблазна и разврата, соединяя «любовную» семантику розы с указанием на самого известного поклонника этих духов. Так запах роз стал частью биографического мифа Кузмина.
Мир, пропитанный запахом духов
В 1915 году в Петрограде вышел литературный сборник «Стрелец», на страницах которого встретились прежде непримиримые противники — футуристы и символисты. Владимир Маяковский, Велимир Хлебников, Давид Бурлюк, Алексей Крученых и Василий Каменский, угрожавшие в 1912 году сбросить Пушкина и Достоевского с парохода современности и взиравшие «на ничтожество» Блока, Кузмина и Сологуба, теперь мирно соседствовали с ними в одной книге.
Михаил Кузмин опубликовал в «Стрельце» несколько произведений, среди которых цикл из двух стихотворений «Летние стихи». Вот они:
1
Тени косыми углами Побежали на острова, Пахнет плохими духами Скошенная трава.
Жар был с утра неистов, День, отдуваясь, лег. Компания лицеистов, Две дамы и котелок.
Мелкая оспа пота — В шею нельзя целовать. Кому же кого охота В жаркую звать кровать?
Тенор, толст и печален, Вздыхает: «Я ждать устал!» Над крышей дырявых купален Простенький месяц встал.
1914
2
Расцвели на зонтиках розы, А пахнут они «folle arôme»... В такой день стихов от прозы Мы, право, не разберем.
Синий, как хвост павлина, Шелковый медлит жакет, И с мостика вся долина — Королевски-сельский паркет.
Удивлен��о обижены пчелы, Щегленок и чиж пристыжён, И вторят рулады фонолы Флиртовому поветрию жен.
На теннисе лишь рубашки Мелко белеют вскачь, Будто лилии и ромашки Невидный бросают мяч.
1914
Оба стихотворения начинаются с упоминания запаха духов: «Пахнет плохими духами / Скошенная трава» и «Расцвели на зонтиках розы, / А пахнут они „folle arôme”...» В первом случае речь идет о духах, созданных с использованием кумарина — вещества, синтезированного в 1868 году и обладавшего ярким запахом свежескошенного сена. Взлет ароматов с этим веществом пришелся на конец XIX — начало XX века: в 1882 году были выпущены Fougere Royale Houbigant, давшие начало целому направлению в парфюмерии — фужерным ароматам. В 1889 году вышла одна из самых знаменитых «кумариновок» — Jicky Guerlain. Вероятно, к 1914 году, году создания стихотворений, этот аромат уже оброс подражаниями, спустился в массы и стал восприниматься как знак плохого вкуса.
Что касается Folle arôme (правильное название этого парфюма — Fol Arôme) , то он был выпущен домом Guerlain в 1912 году. Fol Arôme — насыщенный и сладкий аромат, в котором яркие восточные ноты и пышный запах розы скрываются за нежным лавандовым стартом. Для Кузмина запах розы прежде всего «сладкий» (см. выше «Сладкий запах белых роз»); по всей видимости, сейчас поэт был бы поклонником гурманского направления в парфюмерии.
Эстетизм Кузмина и его предпочтение «окультуренного» мира первозданному подчеркивается упоминанием парфюмерии. Весь окружающий мир пропитан запахом духов: в первом тексте природа пахнет духами, а не наоборот; во втором стихотворении нарисованные розы пахнут известным модным парфюмом. Конкретные названия в тексте помогают не только восстановить ольфакторный облик Петрограда начала ХХ века, но и представить, какие запахи считались приятными или неприятными в это время.
От тебя будет пахнуть изумрудом?
В пьесе Михаила Кузмина «Смерть Нерона» есть такая сцена:
(По лестнице сходит шумная компания молодых людей и девиц. Один из молодых людей, видимо, уезжает, он в дорожном плаще, мальчик несет чемодан. Все смеются и целуются с отъезжающим).
Молодой человек. Лиззи, духи-то какие? Я все забываю.
Лиззи. Emeraude, emeraude! Ты бы записал.
Молодой человек. От тебя будет пахнуть изумрудом?
Лиззи. Вот балда!
Автор допускает небольшую неточность: сцены в отеле отнесены к 1919 году, ��огда как духи, которые влюбленный юноша хочет добыть для своей Лиззи, выпустили двумя годами позднее. Emeraude Coty также были созданы Франсуа Коти в 1921 году и выпускались на протяжении всего ХХ века, вплоть до постепенного угасания дома Коти в конце 1990-х. Замысел пьесы «Смерть Нерона» относится к январю 1924 года, Кузмин начал работу над ней в 1927 году, а закончил в 1929-м (пьеса никогда не ставилась и не публиковалась при жизни автора, она впервые увидела свет лишь в 1977 году). Трудно сказать, когда именно был написан приведенный фрагмент, но не вызывает сомнения, что к середине 1920-х годов духи Emeraude были известны в Советской России. По-видимому, Кузмин и во второй половине жизни не утратил страсти к духам и интересовался новинками парфюмерии.
Так чем же на самом деле должно было пахнуть от Лиззи, если ее друг все-таки добыл бы флакон? Судьба Emeraude Coty довольно интересна: популярный некогда аромат остался в истории как «предок Shalimar`a» Guerlain. Emeraude всего лишь четырьмя годами старше Shalimar (выпущен в 1925 году), но слава «главного восточного аромата» досталась последнему. Emeraude не хватило революционного подхода Герлена: Shalimar был «парфюмерным непарфюмерным» запахом, с глубоким звучанием c оттенками кожи, дегтя, дыма и ванили; Emeraude был «просто» парфюмерией: красивым восточно-цветочным ароматом с мягким сандалово-пудровым раскрытием. Так что от Лиззи бы пахло не изумрудом, а более традиционно: восточным смолисто-специевым ароматом на сладкой и теплой амбровой базе.
По всей видимости, аналогия «изумруд — восток» позволила автору включить в текст упоминание этих духов: в стихотворениях Кузмина образ изумруда встречается нечасто, но иногда присутствует как раз для создания восточного колорита:
Похожа ли моя любовь
на первую или на последнюю,
я не знаю,
я знаю только,
что иначе не может быть.
<...>
Разве хвост Юнониной птицы,
хотя бы сложенный,
не носит на себе
все изумруды и сафиры востока?
(«Ночные разговоры», 1913)
С другой стороны, появление «изумруда» оправдано и художественными задачами произведения. Мотив превращения в сокровище того, что им изначально не является, пронизывает всю пьесу: напр��мер, при характеристике Нерона, расточительного, неумного правителя, который украшает свой дворец и велит удобрять поля порошком из слоновой кости, пока простые люди терпят нищету и голод. Время Нерона параллельно времени начала ХХ века — это центральная идея драмы Кузмина: расточительность, неразличение драгоценного и обыденного характеризует обе эпохи. С другой стороны, Кузмин приурочивает события в драме к определенному времени, используя в конце 1920-х годов тот же прием, что и в своем раннем творчестве: упоминание конкретного сорта духов (см. выше про Fol Arôme) в прямом смысле воссоздает «дух эпохи». Так неожиданно смыкаются «эстетская» лирика Кузмина начала ХХ века с его «зрелыми» произведениями конца 1920-х, а любовь к парфюмерии, при наведении на этот факт увеличительного стекла, может сказать многое и об авторе, и о его творчестве, и о его времени.
#литература#серебряный век#ароматы#парфюмерия#русский тамблер#блог#literature#perfume#russian tumblr#blog
4 notes
·
View notes
Text


Как месяц молодой повис Над освещенными домами! Как явственно стекает вниз Прозрачность теплыми волнами! Какой пример, какой урок (Весной залога сердце просит) Твой золотисто-нежный рог С небес зеленых нам приносит? Я трепетному языку Учусь апрельскою порою. Разноречивую тоску, Клянусь, о месяц, в сердце скрою! Прозрачным быть, гореть, манить �� обещать, не обещая, Вести расчисленную нить, На бледных пажитях мерцая.
Михаил Кузмин
14 notes
·
View notes
Text
✒ Утащено отсюда
Александр Блок ходил по проституткам, но так боготворил свою жену, что не притрагивался к ней пальцем. Жена Александра Блока утешалась с Андреем Белым. Андрей Белый устроил интимный триумвират с ��алерием Брюсовым и истеричкой по имени Нина Петровская, воспетой в сногсшибательном романе о дьяволе и ведьмах «Огненный ангел» (рекомендую). Валерий Брюсов был приличным человеком, а вот Нина Петровская позже вышла замуж за Соколова-Кречетова, который клал руку на колено юного гимназиста Шершеневича и спрашивал его, потерял ли он уже невинность. Зрелый Шершеневич крутил роман с поэтессой Надеждой Львовой, и она считала, что он ее не любит. Не любил ее и Брюсов, потому что был приличным человеком. Однажды она позвонила им обоим по телефону, прося приехать, они отказались, и она застрелилась из того самого револьвера, из которого за 8 лет до этого Нина Петровская стреляла в Политехническом музее в Брюсова, но пистолет дал осечку. Нина Петровская тоже покончила с собой, в эмиграции.
Блока домогалась Лариса Рейснер, говорят, безрезультатно. Зато Гумилев назначил ей встречу в доме свиданий, говорят, успешно. Потом Рейснер стала женой Карла Радека. Гумилева бросила жена. Анна Ахматова держала в возлюбленных композитора Артура Лурье. Лурье весьма «любил как женщину» актрису Глебову-Судейкину, которая была замужем за художником Судейкиным и вызывала ахи у Блока. На квартире у Судейкиных жил Михаил Кузмин. Однажды Глебова-Судейкина сунула нос в дневник мужа, и у нее не осталось никаких сомнений в отношениях между мужем и Кузминым. Кстати, Михаил Кузмин любил эфебов, писал стихи, происходил из староверческой семьи, ходил в поддевке и смазных сапогах, да носил бороду. Николай Клюев писал стихи, происходил из староверческой семьи, ходил в поддевке и смазных сапогах, да носил бороду. Еще он очень любил молодого златовласого Есенина и «давал ему путевку в жизнь»: «поясок ему завязывает, волосы гладит, следит глазами». Есенин много лет прожил в одной квартире с Мариенгофом и ночевал с ним под одним одеялом. Однажды, когда в Москве стояли жуткие холода, они наняли молодую красивую поэтессу, чтобы она грела им постель в течение 15 минут и потом уходила домой, а сами, согласно уговору, сидели лицом в угол, не подсматривая. 4 дня спустя девушка, невероятно оскорбленная тем, что они ничего не попытались сделать с нею, уволилась. Женой Есенина была Зинаида Райх. Когда он ее бросил, она вышла замуж за Мейерхольда. Всеволоду Мейерхольду посвятил одно из своих стихотворений эгофутурист Иван Игнатьев. Сборник назывался «Эшафот. Эго-футуры», и вышел с посвящением «Моим любовникам». Герой-рассказчик предлагает режиссеру расстегнуть Шокирующую Кнопку, иначе говоря, — ширинку. Еще Игнатьев покровительствовал Игорю Северянину, но Северянин ничего не понимал. Игорь Северянин ухаживал за Шамардиной во время общих гастролей с Маяковским. Она была лирична, нездорова, но Северянин ничего не понимал, а потом выяснилось, что у нее как раз тогда был роман с Маяковским и она сделала от него аборт. Маяковский встречался с Эльзой Триоле, и она ему вставила зубы (оплатила дантиста). Потом Эльза уступила его своей сестре Лиле Брик. Лиля Брик запиралась со своим мужем известным опоязовцем Осипом Бриком и громко занималась сексом, а Маяковский сидел под дверью и подвывал. А в Эльзу Триоле был влюблен Виктор Шкловский. Она уехала в Париж и вышла замуж за Луи Арагона. Арагон занимался коммунизмом вместе с Жоржем Батаем, который делил одну любовницу с Пильняком — Колетт Пиньо. Шкловский поехал заграницу вслед за Триоле. Потом он вернулся в Россию к жене. Его жена была Суок, Серафима Густавовна. До этого она сожительствовала с Юрием Олешей, который дал ее фамилию своей кукле из «3 толстяков». Потом Олеша женился на ее сестре Ольге Суок. На третьей сестре, Лидии, женился Эдуард Багрицкий. Еще Шкловский увел женщину у Булгакова, за что тот его ненавидел и вывел в виде демонического персонажа «Шполянского». Елена Сергеевна ушла к Булгакову от генерала Шиловского, прототипа Рощина из толстовских «Хождений по мукам». После ухода «Маргариты» Шиловский женился на дочери А.Н. Толстого. Толстой был влюблен в невестку Горького, про которую ходили слухи, что она спуталась с Ягодой. Горький 16 лет прожил с Марусей Будберг, которая потом стала гражданской женой Герберта Уэлса, а также распускал слухи про Маяковского, что он болен сифилисом. Осип Брик бросил Лилю Брик, чем несказанно ее удивил, оказавшись первым мужчиной, который ее бросил, и женился на простой хорошей женщине.
2 notes
·
View notes
Text
Флейта нежного Вафилла
Нас пленила, покорила,
Плен нам сладок, плен нам мил,
Но еще милей и слаще,
Если встречен в темной чаще
Сам пленительный Вафилл.
Кто ловчей в любовном лове:
Алость крови, тонкость брови?
Гроздья ль темные кудрей?
Жены, юноши и девы -
Все текут на те на��евы.
Все к любви спешат скорей.
О, Вафилл, желает каждый
Хоть однажды страстной жажды
Сладко ярость утолить,
Хоть однажды, пламенея,
Позабыться, томно млея, -
Рвися после жизни нить!
Но глаза Вафилла строги,
Без тревоги те дороги,
Где идет сама любовь.
Ты не хочешь, ты не знаешь,
Ты один в лесу блуждаешь,
Пусть других мятется кровь.
Ты идешь легко, спокоен.
Царь иль воин - кто достоин
Целовать твой алый рот?
Мнится: вот раскроешь крылья
Кто соперник, где предтечи,
Кто обнимет эти плечи,
Что лобзал один Эрот?
Сам в себе себя лобзая,
Прелесть мая презирая,
Ты идешь и не глядишь.
И без страха, без усилья
В небо ясное взлетишь.
Михаил Кузмин


0 notes
Text
Любовь этого лета
Где слог найду, чтоб описать прогулку, Шабли во льду, поджаренную булку И вишен спелых сладостный агат? Далек закат, и в море слышен гулко Плеск тел, чей жар прохладе влаги рад.
Твой нежный взор лукавый и манящий, — Как милый вздор комедии звенящей Иль Мариво капризное перо. Твой нос Пьеро и губ разрез пьянящий Мне кружит ум, как "Свадьба Фигаро".
Дух мелочей, прелестных и воздушных, Любви ночей, то нежащих, то душных, Веселой легкости бездумного житья! Ах, верен я, далек чудес послушных, Твоим цветам, весёлая земля!
Михаил Кузмин
0 notes
